Статья князя П.Кропоткина
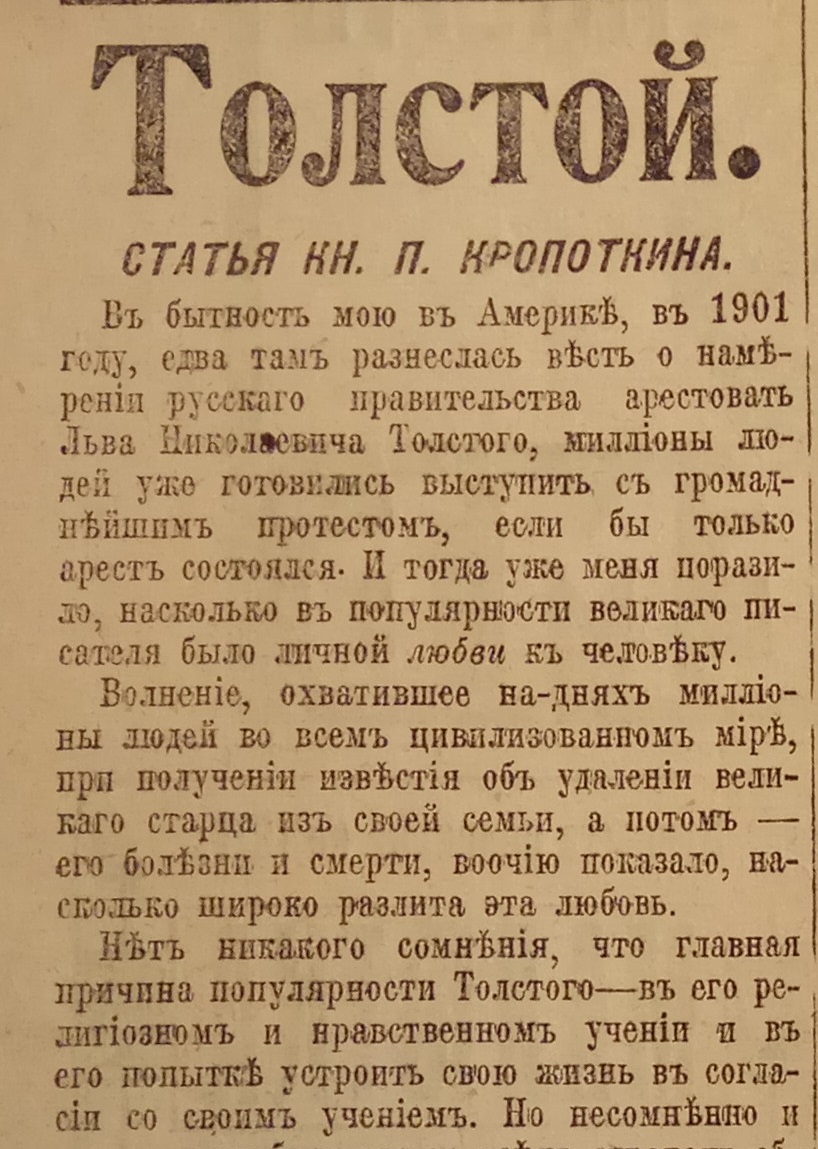
В бытность мою в Америке, в 1901 году, едва там разнеслась весть о намерении русского правительства арестовать Льва Николаевича Толстого, миллионы людей уже готовились выступить с громаднейшим протестом, если бы только арест состоялся. И тогда уже меня поразило, насколько в популярности великого писателя было личной любви к человеку.
Волнение, охватившее на-днях миллионы людей во всем цивилизованном мире, при получении известия об удалении великого старца из своей семьи, а потом – его болезни и смерти, воочию показало, насколько широко разлита эта любовь.
Нет никакого сомнения, что главная причина популярности Толстого – в его религиозном и нравственном учении и в его попытке устроить свою жизнь в согласии со своим учением. Но несомненно и то, что полюбили его во всех странах образованного мира, в особенности за его искание правды, за страдания, пережитые им в этом искании, за искренность с которою он рассказывал свои сомнения и слабости, и свою внутреннюю борьбу.
Люди поняли при этом, что Л.Н.Толстой выразил болезнь нашего века: гнетущее противоречие между основами нашей общественной жизни и понятиями о правде всех тех – людей всех классов, – кто еще не заглушил в себе голоса совести, справедливости, разума. Поняли, что всеми силами своей души искал он рычага, который помог бы правде победить безобразия нашей жизни.
Действительно, никто из тех, чей голос доходит до массы людской – даже Достоевский – не переживал этого разлада в такой полноте, как Толстой. И никто, лучше его, не сумел его выразить, описавши в глубоко-художественной форме свою собственную, более чем 65-летнюю внутреннюю борьбу.
Многое содействовало тому, чтобы из Толстого выработался не только Руссо девятнадцатого века, но мыслитель еще более глубокий, более последовательный и более смелый, чем Руссо.
Во-первых, конечно, наш век, прибавивший опыт всего пережитого за последние полтораста лет – опыт трагедий конца 18 и всего 19 века.
Затем – русская жизнь, с её борьбой; с её народом, ищущим осуществления идеалов, волновавших умы Западной Европы перед реформацией, и с её интеллигентной молодежью, так же готовой и на геройское, и на тихое ежедневное самопожертвование, как была готова итальянская молодежь сороковых годов.
Наконец, русское искусство. Со времени Пушкина и Гоголя, оно, прежде всего, стремится к правде и выше всего ставит искренность, безыскусственность писателя. А со времени Лермонтова оно проникается еще исканием, тоскою по неосуществленному идеалу, – вследствие чего Лермонтов, по словам Толстого, и имел на него большое влияние.
Реформаторские мысли Руссо, обновленные знанием и опытом девятнадцатого века, проникнутые исканием Лермонтова и облеченные в безыскусственную, а потому высоко-художественную форму, завещанную Пушкиным; да еще несомненное влияние, вначале, Тургенева и Григоровича (о нем тоже говорит Толстой): под этими влияниями сложилось творчество Толстого. К ним надо только прибавить влияние русского искусства вообще: театра, музыки, живописи, скульптуры. В них живет тоже стремление к жизненной правде, искренности и скромности.
К этим внешним влияниям присоединилось еще в детстве и юношестве влияние семьи. Во многих дворянских семьях того времени встречалось постоянно два течения: христианские стремления у одних, и рационализм, внесенный французской философией 18-го века у других. Вера и разум в семье Толстых и Волконских (мать Льва Николаевича была княжна Волконская), изобиловавшей замечательными людьми, оба стремления были выражены особенно сильно. И тут же рядом встречались два других течения: поклонение формам жизни “высшего общества”, даже чванство – и резкое, чисто базаровское отрицание этих форм. Христианская вера старшего поколения сталкивалась с безверием молодежи; а безупречное comme il faut старшего брата Сергея – с резким отрицанием всего этого вторым братом, Дмитрием, страстно бросавшемся из христианского аскетизма в дикий разгул, и обратно. Примирения с пустою жизнью сытого барства в этой семье не было.
И еще надо прибавить к этому жизнь в прекрасной усадьбе Ясной Поляны, среди средне-русского, тульско-калужско-орловского крестьянства, где деловитая сухость северно-русского племени смягчается южно-русским влиянием. Здесь зародилась в будущем великом писателе та “чисто-физическая” как он выразился, любовь к крестьянам и их труду, которая так спасительно повлияла на него во время его духовного кризиса в 1876 – 1878 годах.
Всю внутреннюю борьбу, происходившую в нем с ранней юности, между стремлением к чему-то лучшему, к идеалу, хотя еще не осознанному, и между засасывающей пошлостью жизни, Толстой вынес миру и рассказал со всею силою великого художника. Сперва, в первый период своего чисто-художественного творчества, с 1855 по 1878 год, это описывалось в виде жизни и волнений Иртеньева, Неклюдова, Оленина, Пьера (и отчасти Андрея), Левина и др., искусно сплетенных им с жизнью, описываемой им в романе или повести. А потом, во втором своем периоде, начавшемся с появления “Исповеди” в 1879 году и продолжавшемся до смерти, он уже рассказывал свои сомненья и борьбу, прямо обсуждая великие, мучившие его вопросы.
Сознательно или нет, вернее всего безсознательно – самое его творчество сложилось так, что оно удивительно способствовало изображению внутренней борьбы, происходившей в душе писателя.
Основная черта его творчества – правда. Правда без прикрас. Правда, к которой стремились, между прочим, наши писатели-народники (Решетников, Левитов и др.), но которая не давалась им без ущерба художественности. Правда, доведенная до отказа от создания героев, как их создавал Тургенев в Рудине, Базарове, Елене, и даже типов, как их создавал Гоголь в Чичикове, Плюшкине, Бетрищеве и т.д.
Герой – непременно что-то законченное. Он покончил со своими сомнениями и несет в жизнь нечто цельное. Но таких людей Толстой не знал, а создавать их, выдумывать их, он не хочет. Правду сказать, он едва ли верил в их возможность. Со своею острою проницательностью, выражавшуюся даже в его взгляде, он видел то, что люди так тщательно скрывают и заговаривают: их двойственность, их способность хоронить свои идеалы.
Он так хорошо видел в Севастополе, в траншеях ужасного четвертого бастиона, как самое геройство уживается в людях с мелкими страстишками. Он видел, как за несколько часов до смерти, иногда даже геройской, офицеры высчитывали ожидаемые ими награды, обыгрывали друг друга в карты, чванились друг перед другом на бульваре “аристократическими” знакомствами. И по окончании войны он видел то же, только в других сферах в Петербурге. Он изверился в героев. Создавать их – была бы ложь, а ложь, писал он, если она унизительна в жизни, то в искусстве она убивает все. Она уничтожает связь между явлениями.
Самые типы у него слагались другим путем. Он брал живых людей, которых знал близко сам, или по рассказам; и у них он подмечал такие мелкие черты, которые обыкновенно ускользают от зрителя, не-художника; и при помощи этих, обыкновенно ускользающих черточек, он делал лицо типичным.
Во всех своих повестях и романах, как это видно из прекрасной книги П.И.Бирюкова, Толстой брал живых, знакомых ему людей. А в своей великой эпопее 1812 года он даже прибегнул к необыкновенно смелому приему. Рядом с историческими событиями, он, конечно, провел роман, – как это обыкновенно делается в исторической повести. И всю романическую часть он перенес на членов семьи Толстых и Волконских, (“Ростовых” и “Болконских” в романе), о жизни которых знал мельчайшие подробности, по рассказам родных – преимущественно женщин, которые одни могли подметить подробности упоминаемые им. Оттого мы везде встречаем у Толстого живые, выпуклые лица, и, благодаря мелочам их жизни и манер, мы сразу чувствуем себя по-домашнему знакомыми с ними.
Конечно, таким путем Толстой лишал себя возможности создавать мировые типы, вроде Гамлета, Фауста, Иосеновского Бранда и т.п. Но зато, предоставляя другим изображать “героев” (за что он, между прочим, считал Виктора Гюго величайшим романистом), он на себя брал изображать “толпу”, и сумел изобразить ее так, как никому, раньше его, не удавалось.
Для изображения же душевной борьбы, пережитой им самим и переживаемой всеми лучшими людьми нашего века, ему именно нужны были самые обыкновенные люди. В том, что разлад живет именно в них – в миллионах, подобных им, – и кроется историческое значение этого разлада, его сила и его нравственный смысл.
Еще мальчиком Толстой начал чувствовать этот разлад, и в нем началась внутренняя борьба. И в бурные годы молодости борьба между эпикурейской жаждой наслаждений и не покидавшими его высшими порывами должна была доходить до трагизма. От своих собственных страстей он ушел на Кавказ, юнкером, к своему брату Николаю. И тут он на деле испытал контраст между безсилием барича перед могучей природой и требуемым ей напряжением сил, и приспособленностью к этой жизни простых казаков и черкесов, которых он явился покорять, сам не зная зачем. Поклонник Руссо, носивший на шее его портрет в виде ладанки и возивший с собой “Общественный договор” даже в горный набег, он понял на черкесе Садо, спасшем его дважды, насколько “первобытный” черкес стоял нравственно выше его, русского барина.
Еще сильнее почувствовал он этот контраст, когда увидел в Севастополе, как умирали десятки тысяч людей, без фраз, без рисовки.
Много должен был пережить и передумать молодой Толстой в траншеях и ложементах Севастополя, раньше, чем он записал в 1855 году в свой дневник мысль о необходимости взяться за выработку религии, которая отвечала бы современному развитию людей, – христианской религии, писал он, но без догматики и мистицизма, – религии, которая не обещала бы блаженство в будущем, а давала бы счастье в этой жизни.
Мы знаем теперь из поразительной “Исповеди” Толстого, как, сопровождая больного брата Николая, он уехал за границу; как вернувшись в Россию, он занялся обучением крестьянских детей в ясно-полянской школе, а затем стал мировым посредником; и как все время манила его мысль о семейном счастье. Знаем, как он женился в 1862 году и как следующие лет шестнадцать он провел за писанием романов “Война и мир” и “Анна Каренина”, – и как семейная жизнь не дала ему искомого счастья! Бирюков даже напоминает слова, вложенные им в уста Андрея, когда он советует Пьеру не жениться.
Начиная с 1876 года, он начал чувствовать, говорит он, “остановки жизни”. Жизнь теряла всякий смысл. “К чему? Зачем?” – спрашивал он себя. К чему все больше богатства? К чему слава, когда самый смысл опошлившийся жизни утратился? Счастье состоит в жизни для других, писал он когда-то в повести “Казака”. Но убедить себя, что именно так и нужно жить, он не мог, – говорит он в “Исповеди”.
Все люди его круга, считавшиеся прекрасными людьми, жили в полном пренебрежении самой простой справедливости. Когда-то он упрекал их за это в лживости – и, к ужасу своему, он увидал теперь, что и сам он живет точно так же. Что осталось у него от его прежних идеалов? Лучшие его друзья, из катковского лагеря, попирали их ногами. Ужас охватил его, а с ним фаустовское отчаяние, когда он осознал свое собственное безсилие. Самоубийство стало казаться ему единственным выходом.
Известно, как он разрешил мучившие его сомнения. Крестьяне, говорил он, не знают таких сомнений. “Смысл жизни”, для них – труд. И, не веря тогда еще в возможность жить “по-божески”, если нет на то веления религии, Толстой стал исповедовать православную веру, как ее исповедуют миллионы крестьян. Он говел, постился, ходил на богомолье в Киев, в Оптину пустынь… Но сомнения росли. Разум протестовал.
А русская жизнь шла между тем своим чередом, и в ней росло, развивалось “народничество”. Толстой не читал газет, но в 1877 году вышла “Новь” Тургенева, и ее-то он прочел, и через нее он должен был узнать о народниках. Годом позже он уже лично познакомился и подружился с одним из них, Вас. Ив. Алексеевым, одним из членов наших кружков, удалившимся во время преследований 1873 – 1874 года в Америку, в Канзас, где и поселился в одной из коммунистических колоний. Лев Николаевич познакомился также и с бывшими нечаевцами – Бибиковым, замечательным, говорят, человеком, и Орловым; с Маликовым, членом нашего орловского кружка, тоже бывшим мировым посредником, который жил в 1872 – 1874 году по-крестьянски в Орле и вел пропаганду среди рабочих, а потом также уехал работать на земле в Канзасе.
С Алексеевым, – мы теперь знаем из нескольких писем, напечатанных в последней книге Муада, – Толстой прямо-таки сдружился и писал ему в 1881 году:
– “Вы были первый (из интеллигентов) из моих знакомых, который не только словами, но и духом, исповедывал веру, ставшую для меня постоянным и ярким светом. Это заставило меня уверовать в возможность того, что всегда волновало мою душу. Оттого вы всегда были и будете дороги мне” (перевожу с английского).
В том же году Толстой через Пругавина познакомился еще с таким замечательным человеком, крестьянином, как Сютаев. Он и его сыновья бросили промыслы в Петербурге, простили долги должникам своим и ушли в деревню жить семейной коммуной. Сыновья отказались от военной службы и попали в тюрьму. А когда Толстой, после переписи в Москве, говорил перед Сютаевым о своих планах благотворительности для сирот, Сютаев оказался настолько ближе к духу христианства, чем Толстой, со всем своим изучением древних языков для истолкования Евангелия, что Толстой сразу отказался от своих филантропических затей.
И мало-по-малу великий писатель вернулся к тем простым началам безгосударственного социализма, которые волновали его в шестидесятых годах, когда он ездил разговаривать с Прудоном, и, вернувшись из-за границы, вписывал в 1865 году замечательнейшую страницу о необходимости земельного переворота в России, опубликованную П.И.Бирюковым.
Новый мир должен был открыться перед Толстым после его знакомства с народниками. До тех пор он не верил в возможность самопожертвования, – тихого, без многоглаголания, длящегося годы, не верил в добродетельный отказ от житейских благ и возможность перехода интеллигента к ручному труду. И вот он встретился с людьми, исполнявшими то самое о чем он мечтал, и, со своею любящею натурою, он их братски полюбил.
И он понял тогда, что если уже искать в религии опоры для нравственной жизни, то религия не должна противоречить разуму. Он вернулся к мысли о всемирной, рационалистической религии, которую записал в своем дневнике в Севастополе.
С этих пор началась для него новая жизнь – и новая полоса творчества.
Уже тогда он хотел окончательно расстаться с барской жизнью: поселится в избе, в лесу, в Ясной Поляне, и там ручным трудом зарабатывать себе на жизнь. Одно время он даже надеялся, что ему удастся уговорить хотя часть своей семьи присоединится к нему. Его дочери, особенно дочь Маша (умершая, к несчастью, в 1906 году), сочувствовали ему. Но скоро всякие такие планы пришлось оставить. Пришлось отказаться и от мысли полного отречения от литературной собственности на свои сочинения… Драма жизни затягивалась крутым узлом.
Лев Николаевич остался жить в барской усадьбе, но остался в ней чужаком. Кто не знает его комнаты, написанной Репиным? Кто не помнит картины Репина, изображающей Толстого в крестьянской одежде, за крестьянскою сохой! Она облетела мир. Ее встречаем в крестьянских хижинах.
Упростив таким образом свою жизнь, Толстой засел с новой энергией за литературные работы, и в несколько лет издал массу замечательных книг.
Не знаю, как в России, но в Англии и Америке существует, даже между поклонниками Толстого, порядочная путанница насчет его религиозных сочинений и выраженных в них воззрений. Между тем дело очень просто.
В 1876 – 1878 году, когда в нем совершился религиозный кризис, он держался догматов православия. Но уже тогда в нем зарождались сомнения в точности истолкования учения Христова церквами вообще. И вот он предпринял громадный труд. Он изучил сперва богословие, как оно преподается в духовных академиях, и разобрал его, со своей точки зрения, в ученой книге “Критика догматического богословия” (1880). Затем он выучился греческому и отчасти еврейскому языку и издал свой перевод четырех Евангелий (1881-82), а затем, в следующем году, выпустил свое “Краткое изложение Евангелия”. Эти труды послужили основанием его дальнейших религиозно-философских исследований. Ими заканчивается первый период его религиозной жизни после 1878 года.
Затем, с 1882 года, начинается второй период, во время которого он выработал основы той религии, о которой он писал еще в своем дневнике в Севастополе.
В основе всех религий, говорит он, лежит одно и то же начало: выяснение своих отношений ко вселенной (миросозерцание) и признание равенства всех людей.
Поэтому, люди всех религий одинаково понимают добро и зло. Христианство, только полнее других религий излагает руководящие начала жизни. А потому, если взять нравственное учение Христа, без догматических и мистических его частей, то получается учение, которое дает руководство в жизни, и может быть признано не только христианами всех исповеданий, но и буддистами, евреями, мусульманами, даже язычниками, а также теми, кто теперь живет без всякой религии.
Этих начал он и держался до своей смерти, постоянно выставляя превосходство начал братства и любви.
Необыкновенно плодотворный период деятельности начался с этих пор для Толстого, так как он написал за последние тридцать лет, кроме ряда религиозно-философских книг (“В чем мря вера”, “Так что же нам делать?”, “О жизни”, “Царство Божие внутри вам”, “Что такое вера”), множество художественных произведений, социалистических работ в смысле христианского анархизма, политических воззваний и программных писем. Свой лозунг “Не противься злу”, он заменил лозунгом “не противься злу насилием” и по временам он принимал горячее участие в текущих событиях – всегда со своей христианской точки зрения. И везде, в социалистические брошюры, в воззвания, с обращения к обществу, он вносил свое великое, подчас недосягаемое художественное мастерство.
Мало-по-малу великий художник вернулся и к сродному ему творчеству. Сперва в виде небольших рассказов и легенд, или сказок для народа, достигая в некоторых из них (“Где любовь, там и Бог”, “Чем люди живы”, “Много ли земли надо человеку” и др.) поразительной красоты, несмотря на то, что по его же замечанию, сверх-естественный элемент вредит художественности.
Затем в его закате все сильнее выступает драматический и даже трагический элемент. Он сказывается уже в “Смерти Ивана Ильича” (бесполезно прожитая, никому не нужная жизнь), но еще сильнее выступает в драме “Власть тьмы”, в повести “Крейцерова соната”.
“Крейцерова соната”, по моему мнению, была бы едва ли не самым глубоко-художественным произведением Толстого, если бы парадоксальные рассуждения Позднышева, т.-е. самого Толстого, – вовсе не вытекающие, между прочим, из драмы, – не развлекали читателя и не вызывали в нем желания спорить. По стройности построения эта повесть почти достигает совершенства Тургеневских повестей, а по развитию борьбы и вообще семейной драмы в браке, совершившемся только в силу чувственного увлечения, она превосходит все написанное в этом роде. Она прямо взята из жизни.
“Воскресение” так свежо в памяти у всех, что нечего говорить о силе этой повести, поставившей ребром вопрос о праве наказания и о целесообразности наших тюрем. Приведу лучше действительный факт из американской жизни. В 1897 году я читал в Бостоне лекцию о вреде тюрем, называя их “университетами преступности”, и говорил о праве наказания вообще. Мне сильно возражал после лекции один очень умный человек, служащий по тюремной администрации. Четыре года спустя, я опять был в Бостоне, и ко мне пришел то же служащий, прося назначить вечер для беседы с ним и несколькими его друзьями, на тему: Чем следует заменить тюрьмы? Я был очень удивлен и обрадован, и, конечно, спросил, что заставило его изменить свои мнения? – “Я прочел с тех пор “Воскресение” Толстого”, – был его ответ. Такова сила таланта великого нашего художника. Лучшего оправдания идей, которые он проповедовал в своей книге “Об искусстве”, также нельзя было придумать.
И в Англии я натолкнулся, на острове Уайте, на точь-а-точь такой же случай. И тут “Воскресение” сослужило ту же службу.
Насколько глубоко влияние Толстого, мы могли убедиться на-днях. Но оно несомненно еще далеко не достигло полной силы. Как росло влияние Руссо после его смерти, так будет расти и влияние Толстого. Какова будет судьба созданной им попытки формулировать новую религию, свободную от догматизма и мистицизма, – трудно сказать. Много других причин, кроме религиозной этики, ведут к тому, чтобы выработать в человечестве, преимущественно снизу, сознание общественного равенства между людьми. За то его честная, смелая, всегда конкретная и художественно-выраженная критика нашего политического, общественного и нравственного строя, современной этики и религии, собственности и семейного быта, проникает, благодаря силе его таланта и художественному изложению, несравненно глубже всех социалистических писаний. Кто из нас написал что-нибудь равное его “Не могу больше терпеть”, или “Рабство нашего времени”? Кто из нас сумел лучше выразить грызущее нас “искание правды”, т.-е. внутреннюю борьбу, происходящую теперь, везде, во всех классах, между сознанием вопиющей несправедливости и лжи нашего общественного строя, и пробуждающеюся совестью?
Силою своего убеждения и любви к народу и могуществом своего художественного гения он расшевелил лучшие струны человеческой совести; а последним своим поступком – удалением от чуждой ему семьи, с мыслью посвятить остаток сил великому делу пробуждения общественной совести, – он безбоязненно, правдиво, как истый боец, завершил свою жизнь.
Лондон, 12 ноября 1910 г. П.Кропоткин
Опубликовано в газете “Утро России”. 1910. № 306, 21 ноября